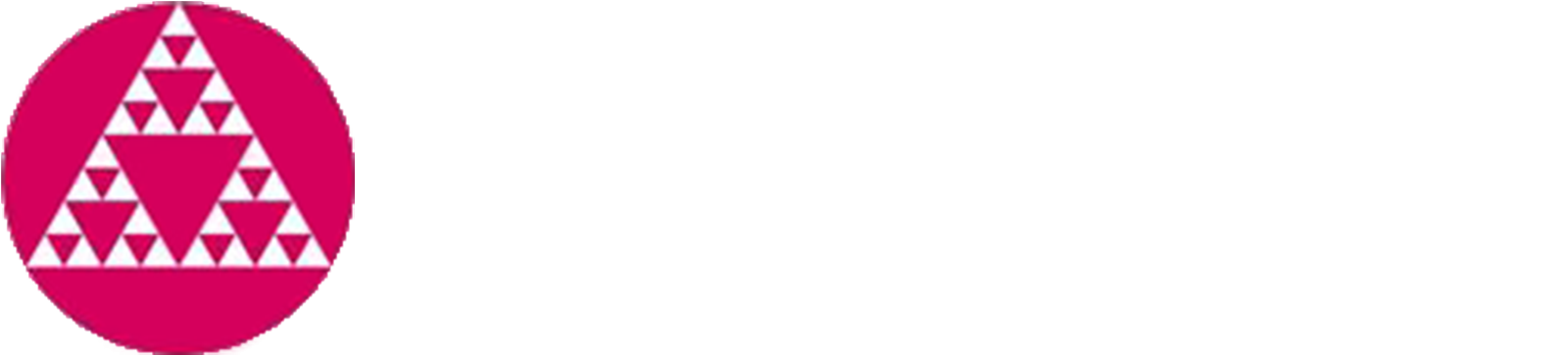Блокада глазами детей

“
Глубокоуважаемые товарищи Гранин и Адамович!
«Блокадную книгу» читал я долго и тяжело, по маленьким порциям переживал текст. Действительно блокадная книга. Настоящая. Первая.
20 января 1978 г. на встрече блокадников в Кировском дворце культуры услышал обращение т. Адамовича и решил написать вам.
В 1941 г. мне было 12 лет — уже мог видеть и запомнить на всю жизнь предостаточно. Видел ужасы, которые тогда не казались ужасными. Погибли отец и мать… Но мне хотелось бы рассказать о знакомых мне людях, вспоминать которых после меня, пожалуй, будет некому, о людях, которые, несмотря на то, что «голод съедает и мозг», сохранили человеческое достоинство до смерти.
Должен вспомнить о моем товарище по 3-4 классам 2-ой (ныне 155) средней школы Смольнинского района, что на Греческом проспекте против «Прутков».
Жил Александр — Шура Белороссов вдвоем с мамой своей в доме на Советском (Суворовском) проспекте, в бель-этаже — теперь там Магазин для новобрачных. Любил свою мать, Маргариту Михайловну, безгранично. В классе держался подчеркнуто независимо, был болезненно восприимчив к ребячьим «шуточкам». Сказывалось, видимо, отсутствие отца. Мы подружились, были на то причины. Потом оказалось, что его мама — учительница рисования и черчения, а я любил рисовать. Познакомились и наши мамы. Наступила осень 1941 г. В школе разместился госпиталь. Заботы, пришедшие с войной, поглотили нас. Вспоминая о Белороссовых, мы были уверены, что они давно эвакуировались.
В один из темных декабрьских дней раздался стук в дверь. Открыли: Шура!
Мы жили на кухне. Там была плита, на плите стояла еще «буржуйка». Окно законопачено и наполовину завешено одеялами. Тепло держалось неплохо.
Шура попросил поставить табуретку для него на середину помещения. Шерстяной платок и вязаную шапку с ушами-шарфом положил на колени: «Чтобы не расползлись вши». Узнать его было трудно. Глаз почти не видно, так опухло лицо. Сказал, что они хотели эвакуироваться, но не смогли, не успели, что Маргарита Михайловна умерла несколько дней назад, лежит дома, что он теперь один.
Мама угостила Шуру щами из хряпы и дурандовыми лепешками (хлопковую дуранду и хряпу с поля близ б<ольни>цы им. Мечникова запасли благодаря предусмотрительности отца).
Начало смеркаться. Шура заторопился домой, твердо сказал, что остаться не может, т.к. рано утром ему обещали увезти его маму. Уже выходя на лестницу, прибавил, что приходил проститься, что знает: дня через два умрет и он.
***
До войны отец работал в крупном учреждении шофером. Учреждение имело свою медчасть. С раннего детства помню врача, «нашего врача» — Василия Васильевича Куфаева.
Из разговоров взрослых догадывался, что появился на свет не без помощи его жены — медсестры Александры Савельевны. Василию Васильевичу и моему отцу к началу войны было уже около 60. Отец был высокого роста и, несмотря на дуранду и хряпу, слабел очень быстро. Ходил он на работу за 10 км — в больницу ак<адемика> Мечникова — развозил раненых. Работал по 3-е суток. Потом приходил домой. Мог бы жить там на казарменном положении, но боялся оставить нас одних.
Мама провожала каждый раз его туда. Отец простудился. Это была катастрофа. По старой памяти решили обратиться к нашему врачу — узнали, что он жив.
Ждали прихода Василия Васильевича вечером. Натопили печку, зажгли две «фитюльки» (я их здорово научился делать), напекли дурандовых лепешек, сделали студень из столярного клея. Помню, что всегда ожидал прихода врача поеживаясь — лечить-то в основном нужно было меня. Даже внешность Василия Васильевича внушала мне трепет. Небольшого роста, горбатый нос, волосы белоснежные ежиком, усы белые, пушистые, в стороны, как у Буденного. Подтянутый, четкий, аккуратный и насмешливый.
Такой же, как мне показалось, но неимоверно худой пришел он к нам в тот январский вечер. Выслушал и выстукал отца, поинтересовался, что осталось в нашей домашней аптечке. Сказал, что нужен куриный бульон, горячее молоко с медом… Посмотрели мы все друг на друга и засмеялись. В первый и последний раз за всю блокаду. Василий Васильевич сказал, что сдерживает себя, не пьет много кипятка, чтобы не пухнуть. «Угощение» принял с достоинством, ел спокойно, как будто был вполне сыт. (Ничего не поделаешь, волей-неволей делал я такие наблюдения). А через несколько дней мы узнали, что Василий Васильевич Куфаев, наш доктор, умер.
***
Эмилия Мартыновна Рииба, тетя Миля — маленькая, сухонькая одинокая мамина землячка. Говорили, нянчила меня, а потом привыкла к семье, пригрелась и с утра до прихода отца с работы не умолкала дома у нас латышская речь. Тетя Миля готовила сказочно — когда-то была шеф-поваром у какого-то вельможи. В 1936 или 37 г. в возрасте за 60 неожиданно вышла замуж, и все свои заботы и умения перенесла на такого же пожилого мужа — Генриха Георгиевича Шталя — высококвалифицированного мастера по водомерам на ленинградской водокачке в районе Таврического дворца.
В октябре-ноябре и начале декабря 1941 г. тетя Миля часто появлялась у нас. Отдыхала, грелась. Из своего дома она уходила рано и, чтобы отоварить карточки и накормить мужа не как-нибудь, а повкуснее, продуктами получше, как ей казалось, бродила тетя Миля по обширному району.
В конце лета 1942 г. (за полгода до своей смерти) Генрих Георгиевич, запущенный, какой-то потерянный — заходил к нам, плакал, рассказывал, как Эмилия Мартыновна отдавала ему свой паек, как притворялась сытой, как отказалась от еды вообще, чтобы, может быть, спасти его.
Кстати, Генрих Г. Шталь, американский коммунист. В 30-е годы приехал на работу в советский Союз, принял сов<етское> гражданство. Говорил, что в США осталась семья, показывал фотографию своего взрослого сына-скрипача и невестки.
***
Такая же по сути история произошла в семье маминого брата.
В 1938 г. дядя — капитан II ранга — был «репрессирован» в Мурманске. Но не расстрелян. Видимо, кроме национальной принадлежности, других причин не нашлось для ареста, — и до осени 1944 г. писал из лагеря в Кандалакше. Его сына тут же исключили из «Дзержинки» и после этого он смог поступить только на курсы чертежников, а началась война — в армию не взяли.
В феврале 1942 г. мы с мамой пришли с 8-ой Советской на ул. Союза Связи (Почтамтскую), 5. Навестить родственников. 22-х летний двоюродный брат Евгений Константинович Винклер, высохший, насквозь промороженный, уже около месяца лежал в маленькой комнате, а в комнате проходной, непонятно как, почти потерявшая рассудок, существовала его мать Мария Юльевна. Топила буржуйку, заходила к сыну «поговорить». Еле слышно и «автоматически» она рассказала, что «Женечка» делился с ней своим «пайком» (125 г !), а у нее не хватало сил не принимать от сына его граммы.
«След» Марии Юльевны потерялся во время эвакуации, в марте 1942 г.
***
К сказанному надо, наверное, кое-что добавить. Думаю, что я не напутал, память не подводит…
Из обрывков мимоходом услышанных разговоров моей мамы и мамы А. Белороссова, разговора моей мамы и Шуры в последний, прощальный приход его к нам в декабре 1941 г. следовало, что Маргарита Михайловна была старшей сестрой известной балерины Н. М. Дудинской, а Шура Белороссов, следовательно, — ее племянник. Но отношения между ними заставляли желать лучшего, контакты были редкие, слабые.
Несколько лет назад, будучи в Кировском театре, я увидел среди зрителей 1-го ряда Н. М. Д<удинскую> и постарался подойти к ней поближе. Сомнений почти не осталось. Похожи очень. Только Маргарита Михайловна была высокой, худой.
Я написал Н. М. Д<удинской> и послал почтой буквально несколько строк о событиях 1941 г., написал свой служебный телефон и назвал только свои имя и отчество. Нельзя быть назойливым, особенно по отношению к знаменитостям — могут неправильно понять.
Молчание. Его я объяснил себе так: «Не надо, не хочу бередить старое!»
***
И еще. Показывали себя люди в условиях блокады с разных, к сожалению, не всегда только хороших сторон. Хорошее вспоминается охотнее, легче. А в борьбе за выживание было всякое. Но даже блокадный людоед — я тоже видел следы людоедства, — если это касалось только жизни его самого, и он не убивал, выглядит, мне кажется, приличнее, чем выродки, использовавшие смертельно безвыходное положение людей и свое случайно или, по-разному, неслучайно сытое положение для обогащения, для своего удовольствия. Их «забыли», не осудили ни юридически, ни морально. Несомненно, у блокадников есть воспоминания и такого плана. И через 35 лет нужно сказать о них. Это ни в коей мере не очернит людей, настоящих ленинградцев. Нельзя забывать и черные дела.
Простите, но иногда вонзается такая мысль: как повели бы себя люди сейчас, возникни схожие с блокадными условия… Не дай Бог, как говорится.
«Блокадную книгу» читал я долго и тяжело, по маленьким порциям переживал текст. Действительно блокадная книга. Настоящая. Первая.
20 января 1978 г. на встрече блокадников в Кировском дворце культуры услышал обращение т. Адамовича и решил написать вам.
В 1941 г. мне было 12 лет — уже мог видеть и запомнить на всю жизнь предостаточно. Видел ужасы, которые тогда не казались ужасными. Погибли отец и мать… Но мне хотелось бы рассказать о знакомых мне людях, вспоминать которых после меня, пожалуй, будет некому, о людях, которые, несмотря на то, что «голод съедает и мозг», сохранили человеческое достоинство до смерти.
Должен вспомнить о моем товарище по 3-4 классам 2-ой (ныне 155) средней школы Смольнинского района, что на Греческом проспекте против «Прутков».
Жил Александр — Шура Белороссов вдвоем с мамой своей в доме на Советском (Суворовском) проспекте, в бель-этаже — теперь там Магазин для новобрачных. Любил свою мать, Маргариту Михайловну, безгранично. В классе держался подчеркнуто независимо, был болезненно восприимчив к ребячьим «шуточкам». Сказывалось, видимо, отсутствие отца. Мы подружились, были на то причины. Потом оказалось, что его мама — учительница рисования и черчения, а я любил рисовать. Познакомились и наши мамы. Наступила осень 1941 г. В школе разместился госпиталь. Заботы, пришедшие с войной, поглотили нас. Вспоминая о Белороссовых, мы были уверены, что они давно эвакуировались.
В один из темных декабрьских дней раздался стук в дверь. Открыли: Шура!
Мы жили на кухне. Там была плита, на плите стояла еще «буржуйка». Окно законопачено и наполовину завешено одеялами. Тепло держалось неплохо.
Шура попросил поставить табуретку для него на середину помещения. Шерстяной платок и вязаную шапку с ушами-шарфом положил на колени: «Чтобы не расползлись вши». Узнать его было трудно. Глаз почти не видно, так опухло лицо. Сказал, что они хотели эвакуироваться, но не смогли, не успели, что Маргарита Михайловна умерла несколько дней назад, лежит дома, что он теперь один.
Мама угостила Шуру щами из хряпы и дурандовыми лепешками (хлопковую дуранду и хряпу с поля близ б<ольни>цы им. Мечникова запасли благодаря предусмотрительности отца).
Начало смеркаться. Шура заторопился домой, твердо сказал, что остаться не может, т.к. рано утром ему обещали увезти его маму. Уже выходя на лестницу, прибавил, что приходил проститься, что знает: дня через два умрет и он.
***
До войны отец работал в крупном учреждении шофером. Учреждение имело свою медчасть. С раннего детства помню врача, «нашего врача» — Василия Васильевича Куфаева.
Из разговоров взрослых догадывался, что появился на свет не без помощи его жены — медсестры Александры Савельевны. Василию Васильевичу и моему отцу к началу войны было уже около 60. Отец был высокого роста и, несмотря на дуранду и хряпу, слабел очень быстро. Ходил он на работу за 10 км — в больницу ак<адемика> Мечникова — развозил раненых. Работал по 3-е суток. Потом приходил домой. Мог бы жить там на казарменном положении, но боялся оставить нас одних.
Мама провожала каждый раз его туда. Отец простудился. Это была катастрофа. По старой памяти решили обратиться к нашему врачу — узнали, что он жив.
Ждали прихода Василия Васильевича вечером. Натопили печку, зажгли две «фитюльки» (я их здорово научился делать), напекли дурандовых лепешек, сделали студень из столярного клея. Помню, что всегда ожидал прихода врача поеживаясь — лечить-то в основном нужно было меня. Даже внешность Василия Васильевича внушала мне трепет. Небольшого роста, горбатый нос, волосы белоснежные ежиком, усы белые, пушистые, в стороны, как у Буденного. Подтянутый, четкий, аккуратный и насмешливый.
Такой же, как мне показалось, но неимоверно худой пришел он к нам в тот январский вечер. Выслушал и выстукал отца, поинтересовался, что осталось в нашей домашней аптечке. Сказал, что нужен куриный бульон, горячее молоко с медом… Посмотрели мы все друг на друга и засмеялись. В первый и последний раз за всю блокаду. Василий Васильевич сказал, что сдерживает себя, не пьет много кипятка, чтобы не пухнуть. «Угощение» принял с достоинством, ел спокойно, как будто был вполне сыт. (Ничего не поделаешь, волей-неволей делал я такие наблюдения). А через несколько дней мы узнали, что Василий Васильевич Куфаев, наш доктор, умер.
***
Эмилия Мартыновна Рииба, тетя Миля — маленькая, сухонькая одинокая мамина землячка. Говорили, нянчила меня, а потом привыкла к семье, пригрелась и с утра до прихода отца с работы не умолкала дома у нас латышская речь. Тетя Миля готовила сказочно — когда-то была шеф-поваром у какого-то вельможи. В 1936 или 37 г. в возрасте за 60 неожиданно вышла замуж, и все свои заботы и умения перенесла на такого же пожилого мужа — Генриха Георгиевича Шталя — высококвалифицированного мастера по водомерам на ленинградской водокачке в районе Таврического дворца.
В октябре-ноябре и начале декабря 1941 г. тетя Миля часто появлялась у нас. Отдыхала, грелась. Из своего дома она уходила рано и, чтобы отоварить карточки и накормить мужа не как-нибудь, а повкуснее, продуктами получше, как ей казалось, бродила тетя Миля по обширному району.
В конце лета 1942 г. (за полгода до своей смерти) Генрих Георгиевич, запущенный, какой-то потерянный — заходил к нам, плакал, рассказывал, как Эмилия Мартыновна отдавала ему свой паек, как притворялась сытой, как отказалась от еды вообще, чтобы, может быть, спасти его.
Кстати, Генрих Г. Шталь, американский коммунист. В 30-е годы приехал на работу в советский Союз, принял сов<етское> гражданство. Говорил, что в США осталась семья, показывал фотографию своего взрослого сына-скрипача и невестки.
***
Такая же по сути история произошла в семье маминого брата.
В 1938 г. дядя — капитан II ранга — был «репрессирован» в Мурманске. Но не расстрелян. Видимо, кроме национальной принадлежности, других причин не нашлось для ареста, — и до осени 1944 г. писал из лагеря в Кандалакше. Его сына тут же исключили из «Дзержинки» и после этого он смог поступить только на курсы чертежников, а началась война — в армию не взяли.
В феврале 1942 г. мы с мамой пришли с 8-ой Советской на ул. Союза Связи (Почтамтскую), 5. Навестить родственников. 22-х летний двоюродный брат Евгений Константинович Винклер, высохший, насквозь промороженный, уже около месяца лежал в маленькой комнате, а в комнате проходной, непонятно как, почти потерявшая рассудок, существовала его мать Мария Юльевна. Топила буржуйку, заходила к сыну «поговорить». Еле слышно и «автоматически» она рассказала, что «Женечка» делился с ней своим «пайком» (125 г !), а у нее не хватало сил не принимать от сына его граммы.
«След» Марии Юльевны потерялся во время эвакуации, в марте 1942 г.
***
К сказанному надо, наверное, кое-что добавить. Думаю, что я не напутал, память не подводит…
Из обрывков мимоходом услышанных разговоров моей мамы и мамы А. Белороссова, разговора моей мамы и Шуры в последний, прощальный приход его к нам в декабре 1941 г. следовало, что Маргарита Михайловна была старшей сестрой известной балерины Н. М. Дудинской, а Шура Белороссов, следовательно, — ее племянник. Но отношения между ними заставляли желать лучшего, контакты были редкие, слабые.
Несколько лет назад, будучи в Кировском театре, я увидел среди зрителей 1-го ряда Н. М. Д<удинскую> и постарался подойти к ней поближе. Сомнений почти не осталось. Похожи очень. Только Маргарита Михайловна была высокой, худой.
Я написал Н. М. Д<удинской> и послал почтой буквально несколько строк о событиях 1941 г., написал свой служебный телефон и назвал только свои имя и отчество. Нельзя быть назойливым, особенно по отношению к знаменитостям — могут неправильно понять.
Молчание. Его я объяснил себе так: «Не надо, не хочу бередить старое!»
***
И еще. Показывали себя люди в условиях блокады с разных, к сожалению, не всегда только хороших сторон. Хорошее вспоминается охотнее, легче. А в борьбе за выживание было всякое. Но даже блокадный людоед — я тоже видел следы людоедства, — если это касалось только жизни его самого, и он не убивал, выглядит, мне кажется, приличнее, чем выродки, использовавшие смертельно безвыходное положение людей и свое случайно или, по-разному, неслучайно сытое положение для обогащения, для своего удовольствия. Их «забыли», не осудили ни юридически, ни морально. Несомненно, у блокадников есть воспоминания и такого плана. И через 35 лет нужно сказать о них. Это ни в коей мере не очернит людей, настоящих ленинградцев. Нельзя забывать и черные дела.
Простите, но иногда вонзается такая мысль: как повели бы себя люди сейчас, возникни схожие с блокадными условия… Не дай Бог, как говорится.
“
Уважаемые товарищи Адамович и Гранин!
Я бывшая учительница. Теперь пенсионерка. Веду общественную работу библиотекаря в библиотеке ЖЭКа № 12 Дзержинского р-на г. Москвы. Прочла в № 12 «Нового мира» Ваши «Главы из Блокадной книги». Много мне доводилось читать о войне, и «Блокаду» Чаковского я прочла. Но эта жуткая правда, которую Вы нам поведали устами блокадников, ни с чем не сравнима. Спасибо Вам сердечное за Вашу книгу.
Под впечатлением прочитанного мне вспомнился рассказ одного ленинградского мальчика. О чем этот рассказ, когда и где я его слышала, Вы узнаете, если прочтете следующие страницы. На мой взгляд, рассказ этот заслуживает внимания. Если вы разделяете мое мнение, то, может быть, найдете возможным включить его в Вашу книгу.
С глубоким уважением Леонова.
Смерч страшного 1941 года вырвал меня с двоими малыми детьми и больной матерью из нашей московской квартиры и закружил по деревням и поселкам Кировской области, пока не выбросил на станции Всполье в Ярославле. Мама к тому времени умерла. Я рвалась домой, тем более, что в Москве снова начали работать школы и не хватало учителей. Но с двоими детьми меня в Москву не пропустили и высадили из поезда в Ярославле (во Всполье), на первом посту проверки.
Есть под Ярославлем поселок и железнодорожная станция Семибратово. Вот это малоизвестное Семибратово и приютило меня с ребятами. Мы прибились там к детскому интернату. Это был двухэтажный деревянный дом и жили в нем ленинградские дети и их воспитатели. По назначению Областного Отдела Народного образования я начала работать там завучем.
Был январь 1943 года. Зима стояла лютая. По утрам, когда дети уходили в школу, я становилась в дверях, держа в руках банку с вазелином. Каждому уходящему я смазывала вазелином нос и щеки, чтобы не обморозились. И вот однажды я обратила внимание на то, что мальчик лет 11-12 одет в девочкино осеннее пальтишко, синенькое, с бархатным воротничком. Оно было ему мало, рукава коротки. Как ни трудно тогда жилось, но дети всегда остаются детьми и готовы пошалить. Я подумала, что этот мальчик подшутил над какой-то девочкой, надел ее пальто, а она сейчас ищет и, наверное, уже плачет (дети были очень нервные, травмированные пережитым в Ленинграде). Когда я спросила, чье на нем пальто, он стал уверять, что пальто это его, вернее его сестренки:
— А где сестренка? — спросила я недоверчиво.
— Ой! Ну, честное же слово! Вечером я вам все расскажу, — крикнул мальчик и выбежал на улицу.
Вечером в спальне старших мальчиков, освещенной только отсветом снега да мигающим фитильком, вставленным в флакончик из-под лекарства, он рассказал. Наверное, этот рассказ нужно вести от него самого.
Итак.
РАССКАЗ ЛЕНИНГРАДСКОГО МАЛЬЧИКА
«Когда у нас начался голод, то первая слегла мама, потом — сестренка. А я еще мог ходить. Правда, бегать уже не мог. Я понял, что должен спасти маму и сестренку, иначе они умрут.
В той булочной, где мы брали хлеб, было две кассы, но кассирша сидела только в одной. А вторая кабинка была пустая. Народу в булочной было всегда полно. Я в толпе незаметно заползал в кабину, зарывал дверцу и лежал там до тех пор, пока не закроют булочную. Потом, когда все уходили, запирали двери, я выходил из кабины, находил на полках остатки хлеба, наедался, отрезал несколько кусков хлеба и рассовывал его по карманам. Потом я опять залезал в кабину и спал. А утром, когда в булочную набивалась толпа, я незаметно вылезал, протискивался к прилавку, получал хлеб по карточкам и шел домой. Мама сначала плакала и ругала меня, а потом перестала. Как-то ей все стало все равно.
Ну, вот. Так я делал несколько раз. А потом как-то получилось, что меня заметили, поймали и отвели в милицию. В милиции я очень плакал и просился домой, но меня не пускали, говорили, что на днях меня отправят с другими ребятами в такое место, где хлеба будет досыта. Два дня я там пробыл. А потом главный начальник сказал милиционеру: "Сходи с ним. Пусть оденется потеплее и сестренку сюда приведет. Сегодня мы их отправим". И мы пошли.
Дверь в нашу комнату была заперта. Мы долго стучали — никто не открывал. В других комнатах тоже была тишина. (Видимо, мальчик жил в общей, коммунальной квартире). Милиционер сказал: "Давай, я тебя подниму на плечи, а ты посмотри в стекло". Над дверью у нас было стекло. Я влез. Увидел маму и сестренку. Они лежали с закрытыми глазами. Я стал громко кричать, потом даже заплакал. Они не шевелились. Умерли. Я выбил стекло. Протянул руку к вешалке. До своего пальтишка не смог дотянуться. И снял с крюка то, которое было ближе — сестренкино. Вот и все. Так что не думайте…»
«Не думайте!» Как это просто!
Я думала дни и ночи, думала о мальчике и его трагедии.
Вернулся ли его отец с фронта и нашел ли сына или мальчик остался круглым сиротой и воспитывался в детском доме, не знаю. Даже имя его выветрилось из памяти. Но рассказ его передан точно. Я не смогла бы его забыть, если бы и хотела.
Я бывшая учительница. Теперь пенсионерка. Веду общественную работу библиотекаря в библиотеке ЖЭКа № 12 Дзержинского р-на г. Москвы. Прочла в № 12 «Нового мира» Ваши «Главы из Блокадной книги». Много мне доводилось читать о войне, и «Блокаду» Чаковского я прочла. Но эта жуткая правда, которую Вы нам поведали устами блокадников, ни с чем не сравнима. Спасибо Вам сердечное за Вашу книгу.
Под впечатлением прочитанного мне вспомнился рассказ одного ленинградского мальчика. О чем этот рассказ, когда и где я его слышала, Вы узнаете, если прочтете следующие страницы. На мой взгляд, рассказ этот заслуживает внимания. Если вы разделяете мое мнение, то, может быть, найдете возможным включить его в Вашу книгу.
С глубоким уважением Леонова.
Смерч страшного 1941 года вырвал меня с двоими малыми детьми и больной матерью из нашей московской квартиры и закружил по деревням и поселкам Кировской области, пока не выбросил на станции Всполье в Ярославле. Мама к тому времени умерла. Я рвалась домой, тем более, что в Москве снова начали работать школы и не хватало учителей. Но с двоими детьми меня в Москву не пропустили и высадили из поезда в Ярославле (во Всполье), на первом посту проверки.
Есть под Ярославлем поселок и железнодорожная станция Семибратово. Вот это малоизвестное Семибратово и приютило меня с ребятами. Мы прибились там к детскому интернату. Это был двухэтажный деревянный дом и жили в нем ленинградские дети и их воспитатели. По назначению Областного Отдела Народного образования я начала работать там завучем.
Был январь 1943 года. Зима стояла лютая. По утрам, когда дети уходили в школу, я становилась в дверях, держа в руках банку с вазелином. Каждому уходящему я смазывала вазелином нос и щеки, чтобы не обморозились. И вот однажды я обратила внимание на то, что мальчик лет 11-12 одет в девочкино осеннее пальтишко, синенькое, с бархатным воротничком. Оно было ему мало, рукава коротки. Как ни трудно тогда жилось, но дети всегда остаются детьми и готовы пошалить. Я подумала, что этот мальчик подшутил над какой-то девочкой, надел ее пальто, а она сейчас ищет и, наверное, уже плачет (дети были очень нервные, травмированные пережитым в Ленинграде). Когда я спросила, чье на нем пальто, он стал уверять, что пальто это его, вернее его сестренки:
— А где сестренка? — спросила я недоверчиво.
— Ой! Ну, честное же слово! Вечером я вам все расскажу, — крикнул мальчик и выбежал на улицу.
Вечером в спальне старших мальчиков, освещенной только отсветом снега да мигающим фитильком, вставленным в флакончик из-под лекарства, он рассказал. Наверное, этот рассказ нужно вести от него самого.
Итак.
РАССКАЗ ЛЕНИНГРАДСКОГО МАЛЬЧИКА
«Когда у нас начался голод, то первая слегла мама, потом — сестренка. А я еще мог ходить. Правда, бегать уже не мог. Я понял, что должен спасти маму и сестренку, иначе они умрут.
В той булочной, где мы брали хлеб, было две кассы, но кассирша сидела только в одной. А вторая кабинка была пустая. Народу в булочной было всегда полно. Я в толпе незаметно заползал в кабину, зарывал дверцу и лежал там до тех пор, пока не закроют булочную. Потом, когда все уходили, запирали двери, я выходил из кабины, находил на полках остатки хлеба, наедался, отрезал несколько кусков хлеба и рассовывал его по карманам. Потом я опять залезал в кабину и спал. А утром, когда в булочную набивалась толпа, я незаметно вылезал, протискивался к прилавку, получал хлеб по карточкам и шел домой. Мама сначала плакала и ругала меня, а потом перестала. Как-то ей все стало все равно.
Ну, вот. Так я делал несколько раз. А потом как-то получилось, что меня заметили, поймали и отвели в милицию. В милиции я очень плакал и просился домой, но меня не пускали, говорили, что на днях меня отправят с другими ребятами в такое место, где хлеба будет досыта. Два дня я там пробыл. А потом главный начальник сказал милиционеру: "Сходи с ним. Пусть оденется потеплее и сестренку сюда приведет. Сегодня мы их отправим". И мы пошли.
Дверь в нашу комнату была заперта. Мы долго стучали — никто не открывал. В других комнатах тоже была тишина. (Видимо, мальчик жил в общей, коммунальной квартире). Милиционер сказал: "Давай, я тебя подниму на плечи, а ты посмотри в стекло". Над дверью у нас было стекло. Я влез. Увидел маму и сестренку. Они лежали с закрытыми глазами. Я стал громко кричать, потом даже заплакал. Они не шевелились. Умерли. Я выбил стекло. Протянул руку к вешалке. До своего пальтишка не смог дотянуться. И снял с крюка то, которое было ближе — сестренкино. Вот и все. Так что не думайте…»
«Не думайте!» Как это просто!
Я думала дни и ночи, думала о мальчике и его трагедии.
Вернулся ли его отец с фронта и нашел ли сына или мальчик остался круглым сиротой и воспитывался в детском доме, не знаю. Даже имя его выветрилось из памяти. Но рассказ его передан точно. Я не смогла бы его забыть, если бы и хотела.
Подсказка
Для увеличения масштаба изображения наведите курсор на изображение и нажмите кнопкой мыши для перехода в галерею. Для увеличения и просмотра текста нажмите на значок лупы в верхнем правом углу. Для просмотра текста передвигайте курсор мыши по изображению, при уменьшении картинки кликните курсором мыши в любом месте.